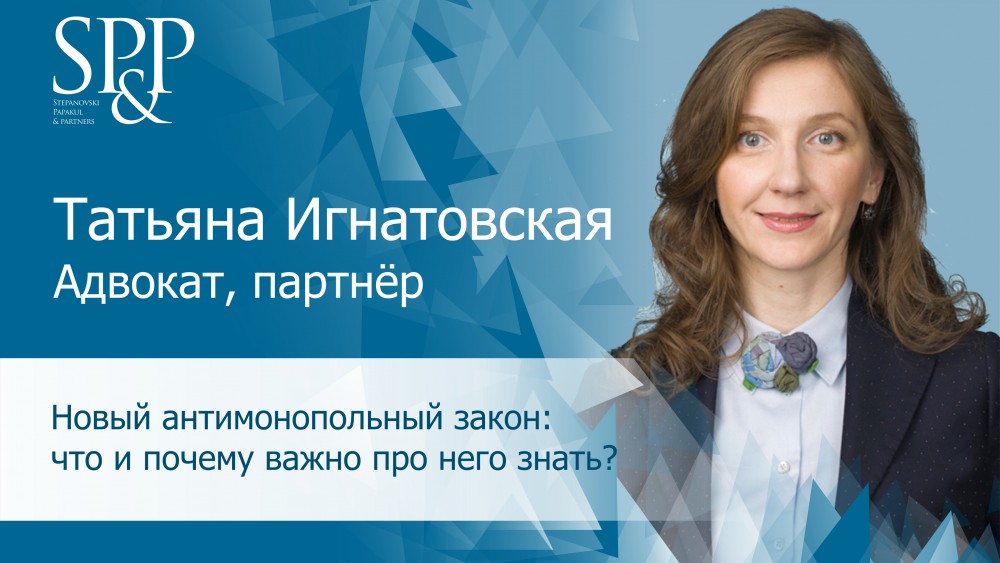В августе 2018 г. вступила в силу новая редакция Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 №94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее — Закон о конкуренции). В статье на конкретных примерах рассмотрим некоторые заблуждения субъектов хозяйствования, касающиеся норм данного Закона.
Новая редакция Закона о конкуренции была принята Законом Республики Беларусь от 08.01.2018 №98-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»» и стала логическим продолжением развития антимонопольного законодательства и практики его применения в последние несколько лет новым антимонопольным органом — Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее — МАРТ).
Рассмотрим основные заблуждения субъектов хозяйствования относительно норм Закона о конкуренции, изложенных в новой редакции.
Заблуждение 1:
«Я не монополист, меня это не касается!»
Закон о конкуренции регулирует не только деятельность и коммерческие отношения крупных компаний, занимающих доминирующее положение в своей отрасли, но и поведение более мелких субъектов рынка, даже таких, как индивидуальный предприниматель. Важно понимать, что деятельность индивидуальных предпринимателей и иных мелких субъектов рынка также может стать предметом антимонопольного контроля.
СПРАВОЧНО. В ст. 1 Закона о конкуренции уточнено понятие «хозяйствующий субъект», которым теперь признается коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, а также иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую ему доход, которая в соответствии с законодательством подлежит лицензированию.
Нормы Закона о конкуренции применяются к отношениям на товарных рынках, где товары являются ограниченно оборотоспособными объектами, если иное не установлено законодательными актами.
В Законе о конкуренции (п. 3 ст. 3), как и ранее, с небольшим уточнением определено, что его нормы применяются также в следующих случаях:
— совершение хозяйствующими субъектами, должностными лицами хозяйствующих субъектов — юридических лиц, государственными органами, их должностными лицами, юридическими лицами, не относящимися к хозяйствующим субъектам, их должностными лицами, физическими лицами, не относящимися к хозяйствующим субъектам, действий (бездействия) за пределами территории Республики Беларусь, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на товарных рынках Республики Беларусь;
— совершение за пределами территории Республики Беларусь действий, определенных Законом о конкуренции как экономическая концентрация, в отношении хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.
СПРАВОЧНО. Экономическая концентрация — сделки с акциями (долями в уставном фонде), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций, иные действия, включая создание и реорганизацию хозяйствующих субъектов — юридических лиц, совершение которых оказывает или может оказать влияние на состояние конкуренции.
Несмотря на сохранение общего подхода к определению доминирующего положения и порогов доминирования, в п. 6 ст. 6 Закона о конкуренции сейчас напрямую закреплено положение о том, что включение субъекта хозяйствования в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, не является необходимым условием для признания его субъектом, занимающим доминирующее положение.
Это значит, что применение мер антимонопольного воздействия, в том числе установление факта нарушения антимонопольного законодательства в форме злоупотребления доминирующим положением, возможно даже в том случае, когда потенциальный нарушитель не был признан доминирующим субъектом (не был включен в Реестр) в момент совершения нарушения либо инициирования процедуры установления факта нарушения.
В процессе проведения разбирательства антимонопольным органом в большинстве случаев проводится анализ товарного рынка, в рамках которого может быть установлен факт наличия доминирующего положения субъекта хозяйствования. Это позволяет в дальнейшем применять санкции за нарушение ст. 18 Закона о конкуренции, что зачастую является неожиданностью для компаний, в отношении которых выносится решение МАРТ об установлении факта нарушения.
Кроме того, следует помнить, что для определения доминирующего положения важное значение имеет определение географических и продуктовых границ товарного рынка, то есть границ обращения товара, не имеющего заменителей для конкретного потребителя. Сложно представить, что можно вести речь о доминировании на более чем конкурентном рынке, например, парикмахерских (банно-прачечных, ритуальных) услуг. Однако, если мы рассматриваем границы небольшого населенного пункта, в котором может быть всего один субъект, оказывающий парикмахерские услуги, то с большой вероятностью деятельность такого субъекта может попасть в поле зрения антимонопольного органа в случае необоснованного поднятия им цены на свои услуги (которые потребителю не у кого больше приобрести на конкурентной основе).
Заблуждение 2:
«Мы не можем быть нарушителями! Мы действовали так, как нам предписало отраслевое министерство!»
Подобное утверждение достаточно часто приходится слышать от представителей компаний с долей государственной собственности. Такие предприятия, как правило, входят в состав концернов и отраслевых объединений, в рамках которых в том числе нередко обсуждаются и утверждаются правила поведения на рынке и планы развития.
Как и ранее, в Законе о конкуренции сохраняется запрет на ограничивающие конкуренцию акты законодательства, иные правовые акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия государственных органов (ст. 23).
Существенных изменений данная норма не претерпела, за исключением п. 2 ст. 23, который расширен за счет перечисления незакрытого перечня возможных запретов, а также п. 4 ст. 23 Закона о конкуренции.
Так, в силу п. 2 ст. 23 Закона о конкуренции государственным органам запрещается принимать (издавать) акты законодательства, иные правовые акты, совершать действия (бездействие), согласованные действия, заключать соглашения, если такие акты законодательства, иные правовые акты, действия (бездействие), согласованные действия, соглашения приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции и (или) причинению вреда правам, свободам и законным интересам юридических или физических лиц, в том числе:
— необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности;
— устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении осуществления определенных видов деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе на изготовление (производство) определенных видов товаров;
— незаконно ограничивать права хозяйствующих субъектов на совершение сделок;
— устанавливать запреты или вводить ограничения в отношении свободного перемещения товаров на территории Республики Беларусь, иные ограничения прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение товаров и их обмен;
— ограничивать самостоятельность хозяйствующих субъектов, в том числе давать хозяйствующим субъектам указания о приобретении товара, первоочередной поставке товара определенному кругу потребителей, приоритетном заключении договоров;
— предоставлять хозяйствующему субъекту доступ к информации в приоритетном порядке;
— предоставлять государственные преференции;
СПРАВОЧНО. Под государственной преференцией понимается предоставление государством отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, обеспечивающего им более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного имущества, иных объектов гражданских прав, предоставления государственной финансовой поддержки.
— устанавливать для потребителей товаров ограничения выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;
— создавать дискриминационные условия.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Необходимо учитывать, что только актами Главы государства могут быть установлены преимущественные или дискриминационные условия в отношении отдельных хозяйствующих субъектов по сравнению с теми принципами и правилами, которые закреплены в нормах антимонопольного законодательства.
В п. 4 ст. 23 Закона о конкуренции появилась новая норма о том, что в случае наделения хозяйствующего субъекта правами государственного органа (даже при наличии общего запрета на подобное поведение данная конструкция встречается, например, при возложении на субъекта хозяйствования обязанностей по реализации исключительного права государства) на такой субъект в полной мере распространяются антимонопольные запреты, установленные для государственного органа.
Из ст. 23 Закона о конкуренции следует, что любой акт либо любое действие (бездействие) государственного органа, противоречащие нормам антимонопольного законодательства, могут быть пресечены антимонопольным органом.
На практике наиболее распространены случаи, когда в государственном органе проводятся всевозможные совещания (в том числе оформляемые протоколом), на которых определяются планы производства, реализации продукции предприятиями отрасли, поведенческие условия на рынке, территориальный раздел рынка между хозяйствующими субъектами, возложение на отдельные субъекты хозяйствования обязательств, не предусмотренных законодательством.
Соответственно, даже если у субъекта хозяйствования есть, как ему кажется, «индульгенция» от государственного органа-регулятора, далеко не всегда она сможет стать действительно «охранной грамотой», которая освободит от привлечения к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
Кроме того, следует отметить, что новая редакция Закона о конкуренции также уточнила понятие «государственный орган». Теперь антимонопольные запреты действуют не только в отношении «классических» государственных органов — министерств, ведомств, местных исполнительных и распорядительных органов, но и иных органов и организаций, осуществляющих функции указанных органов.
Кроме того, к государственным органам теперь отнесены «временные либо постоянно действующие межведомственные формирования, состоящие из представителей государственных органов, которые актами законодательства наделены отдельными государственно-властными полномочиями». Фактически это означает, что появилась законная возможность пресечь неконкурентные действия межведомственных групп, которым зачастую делегируются права «квотирования» или определения «стратегий» развития тех или иных отраслей или товарных групп антимонопольными нормами. При этом ранее, исходя из формального законодательного определения, это было невозможно.
Заблуждение 3:
«В МАРТ можно обжаловать только госзакупки!»
Компетенция МАРТ по рассмотрению жалоб, связанных с государственными закупками, равно как и процедура рассмотрения таких жалоб, не претерпела изменений со вступлением в силу новой редакции Закона о конкуренции.
Однако теперь в МАРТ можно обратиться не только в случае выявления нарушения законодательства о государственных закупках, проводимых за счет бюджетных средств, но и в иных случаях, когда при проведении любых закупок обнаруживается наличие неравного подхода к участникам таких закупок.
Так, ст. 24 Закона о конкуренции запрещает действия, приводящие к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при осуществлении закупок. К таким действиям, например, относятся координация организатором и (или) заказчиком деятельности участников, создание преимущественных условий отдельным участникам, предоставление участнику доступа к информации при проведении закупок.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Перечень потенциально неконкурентных действий не является закрытым, и фактически можно обосновать в качестве нарушения ст. 24 Закона о конкуренции любые действия, приводящие к ограничению (недопущению, устранению) конкуренции при осуществлении закупок. При этом такие нарушения рассматриваются антимонопольным органом по правилам установления наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в порядке главы 6 Закона о конкуренции.
Заблуждение 4:
«Нет документа — нет проблемы!»
Зачастую приходится слышать заявление о том, что «мы ничего не подписывали, никакого неконкурентного соглашения у нас быть не может». Тем не менее нарушение антимонопольного законодательства может быть установлено и при отсутствии единого подписанного сторонами соглашения (договора).
В соответствии со ст. 1 Закона о конкуренции соглашением признается договоренность в письменной или электронной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме.
При этом соглашение в устной форме было закреплено и в первой редакции Закона о конкуренции, в новой редакции появилось лишь уточнение относительно электронной формы документа.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Закон о конкуренции признает соглашением не только документ, облеченный в гражданско-правовую форму в отношении различных обязательств. Фактической договоренности, содержащейся в электронной переписке, тоже может быть достаточно для подтверждения достигнутой договоренности.
На практике в качестве доказательств при рассмотрении дел используются не только документы, полученные от сторон или государственных и иных органов, но и устные и письменные пояснения физических лиц — сотрудников (в том числе бывших) хозяйствующих субъектов и их контрагентов, которые могут не совпадать с «официальной версией» других лиц.
Заблуждение 5:
«Чем меньше сам про себя расскажешь антимонопольному органу, тем лучше!»
Довольно часто приходится слышать: «У нас тут МАРТ уже третий раз просит одно и то же, мы же не должны им информацию предоставлять, они же не следственный орган?».
Действительно, МАРТ не следственный орган, но субъекты хозяйствования должны предоставлять информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну. Данная обязанность закреплена в ст. 49 Закона о конкуренции, и за ее неисполнение предусмотрена административная ответственность.
ВАЖНО ЗНАТЬ. Непредоставление информации субъектом хозяйствования самостоятельно не исключает возможности антимонопольного органа получить такую информацию из другого источника (у контрагента, государственного органа, иным способом) и, кроме того, влечет административную ответственность.
На практике имел место случай, когда иностранная компания, в отношении которой белорусский производитель-конкурент подал заявление о нарушении, уклонялась от предоставления документов белорусскому антимонопольному органу, ссылаясь на различные процедуры и запреты, установленные национальным правом в отношении выдачи документов иностранному государственному органу.
Подобная позиция с большой долей вероятности могла привести к установлению факта нарушения антимонопольного законодательства «по имеющимся в деле материалам», полученным только от одной стороны-заявителя. Тем не менее, на последних этапах разбирательства субъект поменял тактику взаимодействия с антимонопольным органом, ответил со своей стороны на все вопросы, являющиеся предметом разбирательства, и тем самым доказал, что в его действиях не было признаков нарушения, а цена товара является экономически обоснованной и не связана с действиями на рынке конкурента, равно как и не противоречит его интересам.
Кроме этого, в новой редакции Закона о конкуренции напрямую закреплено, что даже при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в части некоторых составов злоупотребления доминирующим положением (ст. 18), а также некоторых запрещенных вертикальных соглашений (ст. 20) хозяйствующий субъект вправе представить антимонопольному органу доказательства, что его действия (соглашения) могут быть признаны допустимыми.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что сам факт обращения антимонопольного органа к субъекту не указывает на нарушение антимонопольного законодательства. При этом реагировать и грамотно обосновывать свои действия на товарном рынке — правильная стратегия.